Как фарфор эстетизировал охоту – любимую русскую забаву.
Классическая русская псовая охота всегда была культурным феноменом усадебного быта. Столько в ней сформировалось правил и ритуалов, что добыча отходила на второй план, главным становилось само действо, почти театрализованное. Чего стоили одни только охотничьи наряды аристократии, особенно женские (для того, чтобы ездить в дамском седле, шили платья покроя «амазонка»: в седле с двумя луками и одним стременем с левой стороны сидели боком, поэтому юбка была асимметричной)! Полевые условия, но сплошь бархат, атлас, белые кружевные манжеты и вуали. Для охоты содержали специально тренированных лошадей и целые своры собак, причем гончих в стае подбирали и по рабочим качествам, и по голосам, такой «хор» был предметом гордости владельца. Даже лексикон появился особый – лингвисты насчитали в охотничьем словаре не менее 500 слов, например, для разных животных существовало свое название хвоста: у гончей он именовался гон, у борзой – прави́ло, у легавой – прут или перо, у волка – полено, у лисы – труба, у зайца – цветок или пых.

И конечно, по окончании «активной» фазы охоты обязательно отводилось время для пиршества. Неудивительно, что посуда с охотничьими мотивами приобрела особую популярность, став тем изящным штрихом, который превращает обычный ужин в эстетическую кульминацию всего события. Ведь жанровые сценки, изображенные на тарелках, штофах и чашках, давали повод еще раз припомнить и обсудить самые яркие эпизоды прошедшего дня.

Среди русской знати моду на «охотничьи» сервизы задала Екатерина II, заказавшая на Мейсенской фарфоровой мануфактуре роскошный подарок своему фавориту Григорию Орлову. Грандиозный набор посуды, включавший в себя более тысячи предметов, живописные сцены для которых были позаимствованы с гравюр немецкого художника Иоганна Ридингера, стал самым многочисленным сервизом XVIII века, и до наших дней сохранился лишь фрагментарно в нескольких музеях. Подобного рода продукцию в больших количествах изготавливали «порцелиновые» фабрики в Германии, Франции, Великобритании, Чехии, многие из них сохранили исторические эскизы и продолжают выпускать люксовые «охотничьи» линейки и сейчас.
Богатую историю начиная с середины XVIII века фарфоровое производство имеет и в России. Правда, после революции в сюжетах росписи по понятным причинам сменилась тематика – преобладающими стали «агитки на тарелке». Но в XXI веке интерес к старинным сюжетам начал возвращаться, и к охотничьим в том числе.

Причем, что особенно отрадно, возрождают культурное наследие не только такие гранды, как Императорский фарфоровый завод и «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках», но и молодые производства. Скажем, «Павлово-Посадская керамическая мануфактура», объединив традиции керамических производств восточного региона Подмосковья и уникальную художественную школу Павловского Посада (вспомним знаменитые платки), сделала одним из основных своих направлений как раз изображение природы и охоты. Понятно, что щедро позолоченные тарелки с вычурным дизайном двухсотлетней давности сегодня не всякий захочет видеть у себя на столе. Поэтому наряду с классическими сюжетами, выполненными в изобразительной манере XIX века, на посуде воспроизводится и вполне современная живопись с «портретами» животных. Есть и тонкая, аккуратная стилизация – например, декоративные тарелки художника-анималиста Вадима Горбатова с изображением исторических сцен соколиной охоты времен царя Алексея Михайловича взял в свою коллекцию Дарвиновский музей.

Главное, что традиция не прерывается. К счастью, верховая и псовая охота в наши дни превратилась в костюмированные мероприятия, где зверей не убивают, а в роли добычи выступают искусственные приманки. И коль скоро эстетика сего благородного действа по-прежнему многим нравится и востребована, то «охотничий» фарфор останется классикой на все времена.

Фото: пресс-служба, Vostock Photo

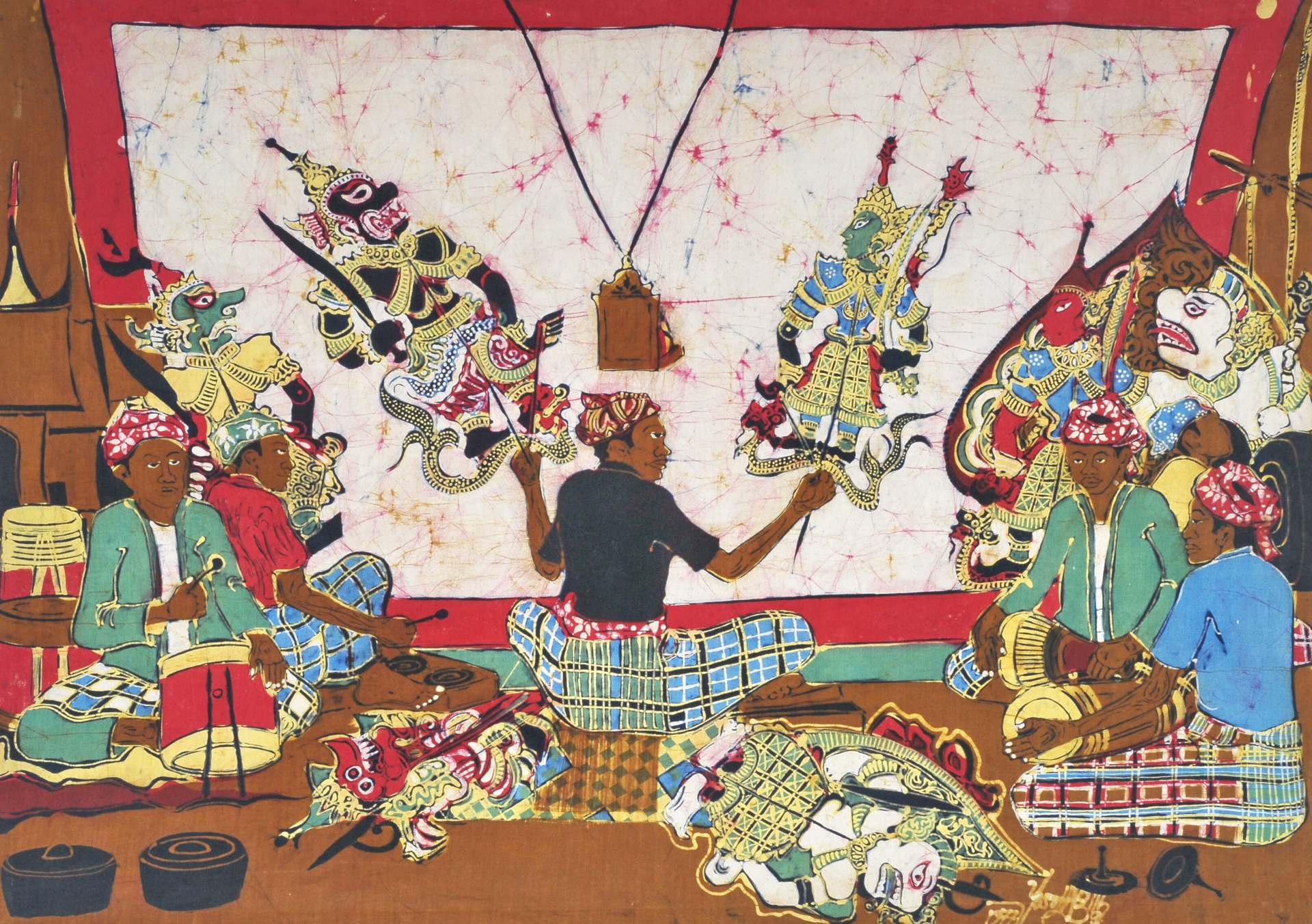

Комментарии